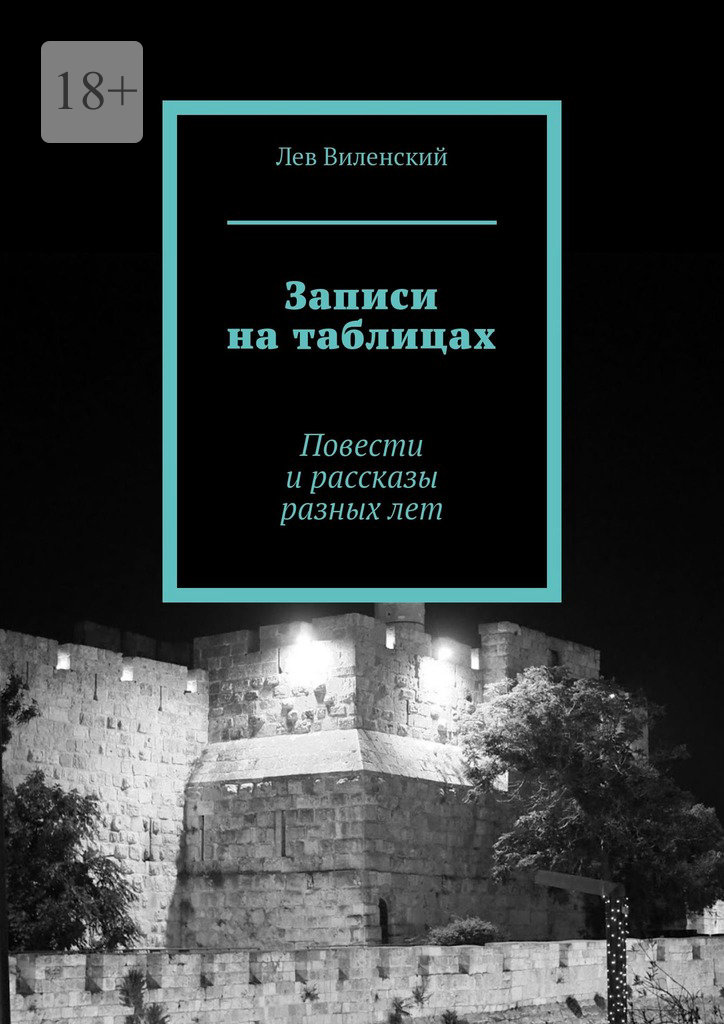вынырнуть вскоре наверх — как ныряльщик за воздухом — перед тем, как опуститься в уходящий сквозь палеозойские толщи тоннель, к станциям глубокого заложения, к лабиринтам переходов, коридоров и слепых концов, в чудовищный муравейник подземного города, к морлокам Евразии, копящими под землей свою исполинскую силу. Он, пригвожденный ее взглядом, смог ответить тем же. Он смотрел на нее, молча, стараясь не моргнуть, ни на один миг не дать исчезнуть ее образу. Быть бы ему одноглазым Полифемом или многооким Аргусом — он не сморгнул бы и тогда.
Слеза медленно катилась по щеке. «Как же я люблю тебя», — думал он, и взгляд его ласкал ее, словно натянулась вновь серебряная нить между ними. «Как же я соскучился по тебе». «Ненавижу, ненавижу, ненавижу», — отвечал ее взгляд. Он читал ее глаза — как ему показалось — ужасно долго. Незнакомец в длинном пальто. И она — в изящном синем полупальтишке, красивые длинные золотые серьги покачиваются в такт поезду, длинная шея, нежный, полуприоткрытый от удивления, рот, изящные маленькие руки, переплетенные пальцы на коленках, к которым он так хотел прижаться щекой… Аристократичная, тонкая, любимая до боли в затылке, до крови в проткнутых ногтями сжатых пальцев, ладонями.
Ненавижу, ненавижу, ненавижу… звучало все тише и тише в ее взгляде, зеленые озера глаз подернулись пеленой слез.
Он встал — шатающийся вагон чуть не швырнул его назад. Пошатнулся. На него с удивлением смотрели чужие люди. Он не видел их. Он видел пустой вагон. Он пал на колени перед ней, не сводя глаз с нее. И она бросилась к нему, чтобы поднять его.
«Прости меня!» — крик зазвенел, отдаваясь эхом.
Он проснулся. Солнце, ноябрьское, но все еще теплое и сильное, стояло в окне. Трещал будильник. Медленно просыпался за окном Город Городов, пуп земной, сосредоточие святости…
«Прости меня», — еще раз повторил он.
«Спасибо, что ты явилась ко мне во сне», — добавил он в пространство.
И откуда-то из чудовищной дали прозвучал ее голос: «Ненавижу, ненавижу… любимый мой!»
Следующий! — позвал психиатр в прохладную тишь приемной, нарушаемую журчанием воды в аквариуме.
За окном тринадцатого этажа, где, волею случая, располагался кабинет врача, нестерпимо-яркое солнце остервенело грело желтоватые дома, выцветшие вывески, изнемогающие от жары, деревья. Центр города бурлил, несмотря на жару, и шли навстречу полуодетые молодые женщины, смуглые, неторопливые, в легких сандалиях на гладких длинных ногах, с карминово-красными — по последней моде — губами, и в коротких, по той же моде, шортах. Они несли себя гордо и властно, они пахли горьковатым запахом жасмина и таинственным ароматом недоступности. Женские потоки вливались в ворота магазинов, извергались из серой ленты трамвая, и всюду воздух был наполнен их голосами, птичьим щебетаньем перевалившего на другую половину, лета.
Вошедший больной нисколько не удивил психиатра. Узко посаженные глаза, узкое же лицо, заросшее густой бородой, длинный подбородок и крючковатый нос. «Шизоид» — сразу нарисовался диагноз. Лицо вошедшего жило какой-то своей жизнью, оно беспрерывно двигалось, нервным изломом дергались кустистые брови, непрестанно подмигивал доктору то один, то другой глаз, и морщился гармошкой высокий лоб.
«Леонид», — представился пациент, застыв по стойке «смирно» и глядя в окно.
«Присаживайтесь», — непринужденно и вежливо бросил психиатр, указывая на стоящее наискосок в углу, глубокое и мягкое кресло. Все в кабинете располагало пациента к покою, от неброских абстрактных картинок до приглушенных тонов окрашенных стен. Леонид неуклюже сел в кресло, сложился циркулем, подняв колени почти на уровень подбородка.
— Чем могу помочь, Леонид? — спросил доктор, попутно отмечая отсутствующий взгляд серых глаз, потертую неаккуратную рубаху с подозрительными пятнами и оторванной пуговицей, и потертые, хотя и дорогие когда-то, ботинки пациента.
— Видите ли, доктор, — Леонид начал с места в карьер («Буйный», — пронеслось у доктора в мозгу), — я больше не могу жить. Все кончено. Не хочу я больше так! — тут его голос неожиданно сорвался в крик, — Не хочу, понимаете, не могу, не буду!!! Помогите, доктор! Дайте чего-нибудь, чего-нибудь такого, чтобы я забылся, забылся, заснул!!!
Тут больной приступообразно зарыдал, ударяя себя кулаком в лоб.
Врач подождал окончания истерического приступа, придвинул к себе блокнот и начал опрос. После рутинных вопросов о возрасте, семейном статусе (женат), наследственности (все были здоровы, как же, как же, дай Бог здоровьичка), вредных привычках (не курит, не пьет, наркотики не употребляет, онанирует и грызет ногти), психиатр увидел, что больной несколько успокоился. Даже поза его в кресле стала менее напряженной.
— Понимаете, доктор, — неожиданно расслабленно сказал он, — я люблю одну женщину. Я живу ей, понимаете? Сomprendre, mon ami? Это как другая жизнь… она все время рядом со мной. Я говорю с ней («Вслух»? — спросил быстро психиатр. «Нет, про себя»…), покупаю ей цветы, пишу письма, мы разговариваем с ней до поздней ночи… Я не мыслю себя по — иному, кроме как с ней рядом…
— Так в чем же дело, — спросил доктор удивленно, — женитесь на ней!
— Не могу, — грустно сказал больной, — я женат. У меня, знаете, дети. Двое. Мальчик и девочка. И я поэтом у разорвал с ней отношения. Я пытался, нет, честно, пытался заставить себя бросить все и наконец-то заключить ее в объятия. Но не мог! Я не мог, доктор! Я разрывался надвое, и я обещал ей, что буду с ней, и не выполнял обещаний. А потом я исчез из ее жизни, думал, время вылечит. А мне все хуже. Все хуже. Я тоскую по ней, ни одной ночи, в которой мне удается поспать хотя бы час. Уже полгода прошло, и, чувствую, что мне конец. Я стал себе гадок, доктор! Я отвратителен себе самому, понимаете? Я спрашиваю себя, зачем я обещал ей это все, зачем я обманывал и ее, и себя, зачем я делал больно единственной и самой любимой женщине? Я ведь делал ей больно, и мне не надо больше жить из-за этого! Я ненавижу себя! Доктор, дайте мне целебного снадобья, чтобы я мог жить!!! Чтобы я мог забыть ее!!!
Психиатр задумчиво глядел в окно, за которым все то же раскаленное солнце жалило лучами своими все вокруг, и выводил узоры вокруг записанного им диагноза: «Реактивная депрессия». Леонид ждал его слов, как приговора, склонивши вперед тело и нервно перебирая пальцами.
Доктор вздохнул, оторвал от стопочки рецептов одинокий рецепт и выписал антидепрессанты. Потом он сказал неожиданно глухим голосом
— Вы должны ее забыть. Понимаете? Это бесполезно. У вас с ней уже ничего не получится, да и тогда бы не получилось. Это, знаете, романтика, пустое это все…